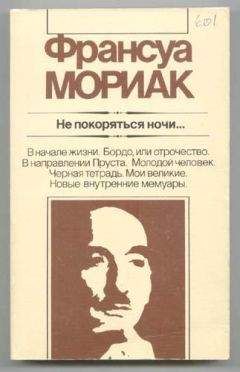Франсуа Мориак - Том 1 [Собрание сочинений в 3 томах]
Последнее слово она произнесла еле слышно. Ее прекрасные, полные слез глаза были устремлены на доктора, смиренно испрашивая его одобрения, и он тотчас дал его; серьезным, спокойным голосом он похвалил эту женщину, без конца заклинавшую его:
— Вы такой замечательный человек… вы самый благородный из всех, кого я когда-либо знала… одного вашего существования довольно, чтобы заставить меня уверовать в добро…
Он пытался протестовать.
— Я совсем не такой, как вы думаете, я всего только жалкий человек, снедаемый желаниями, так же, как другие…
— Вы бы не были святым, — возражала она, — если бы не презирали себя.
— Нет, нет, Мария! Какой там святой! Если бы вы знали…
Она взирала на него с безмерным восхищением, но ей никогда не случалось беспокоиться о нем, как беспокоилась его жена, или хотя бы замечать, что он плохо выглядит. Восторженное преклонение, которым удостаивала его эта женщина, делало его любовь безнадежной. Ее восхищение воздвигало перед его страстью каменную стену. Будучи вдалеке от Марии Кросс, несчастный убеждал себя, что нет на свете препятствий, которых такая сильная любовь не могла бы преодолеть, но стоило ему снова очутиться лицом к лицу с молодой женщиной, так почтительно ловившей каждое его слово, — и он сдавался перед очевидностью своего непоправимого несчастья: ничто на свете не могло бы изменить характера их отношений, она не любовница его, а ученица, он не любовник, а наставник. Протянуть руки к этому распростертому телу, привлечь его к себе было бы таким же безумием, как разбить это зеркало. А ведь он еще не подозревал, с каким нетерпением Мария ждала, чтобы он ушел. Внимание доктора ей льстило — при ее унизительном положении она не могла не ценить знакомство с таким видным человеком, но до чего же ей было с ним скучно! Не догадываясь, что его визиты ей в тягость, доктор с каждым днем все сильнее чувствовал, что больше не в силах скрывать свою тайну, и уже так плохо скрывал ее, что лишь бесконечным равнодушием к нему Марии можно было объяснить, почему она до сих пор ничего не заметила. Если бы она испытывала хоть проблеск влечения к доктору, его любовь бросилась бы ей в. глаза. Увы! Какой рассеянной может быть женщина в присутствии человека, которого она хоть и уважает и даже чтит и обществом которого гордится, но с которым ей нестерпимо скучно, — это уже отчасти открылось доктору, открылось настолько, что он совсем пал духом.
Доктор поднялся, прервав Марию Кросс на полуслове:
— Ах, — сказала она, — конечно, ведь вы не располагаете собой, вас ждут несчастные… Я не хочу быть эгоисткой и присваивать вас себе.
Он опять прошел через пустую столовую, через переднюю, спустился в застывший сад, где на него дохнуло холодом. Пока он ехал домой в карете, ему представилось лицо Люси, участливое и огорченное, — она, наверно, ждет его и тревожится, и он несколько раз повторил себе. «Только не причинять никому страданий, довольно и того, что я сам страдаю, не причинять страданий другим…
* * *
— Сегодня ты выглядишь еще хуже. Чего ты ждешь, почему не пойдешь к Дюлаку? Если ты не хочешь сделать это ради себя, то сделай хотя бы ради нас. Можно подумать, будто ты сам по себе, а нас это совсем не касается.
Госпожа Курреж призвала в свидетели Басков, которые беседовали вполголоса, но теперь прервали разговор и послушно вторили ее увещаниям.
— Конечно, папа, мы все желаем, чтобы вы как можно дольше оставались с нами.
При звуке этого ненавистного голоса доктор устыдился своей неприязни к зятю, которая всякий раз вскипала в нем снова. «Он все же честный малый… я не прав… Но разве мог он забыть причины своей ненависти к Га-стону Баску? За все годы супружества доктор только в одном нашел осуществление своей мечты: напротив их большого супружеского ложа стояла детская кроватка, и каждый вечер они с женой любовались спящей Мадленой, их первым ребенком.
Девочка дышала неслышно, прелестная ножка откинула одеяло, между прутьями кроватки свешивалась чудесная пухлая ручонка. Это было такое кроткое дитя, что ее можно было баловать без опасения испортить, и нежная привязанность отца приручила девочку настолько, что она могла часами бесшумно играть у него в кабинете. «Вы утверждаете, будто она не слишком развита, — говорил доктор, — она развита больше, чем надо». Позднее доктор, который терпеть не мог появляться на людях с г-жой Курреж, радовался, когда его встречали с этой юной девушкой. «Тебя принимают за мою жену!» К тому времени он выбрал для нее одного из своих учеников, единственного, который, как ему казалось, вполне его понимает — Фреда Робинсона. Доктор уже называл его сыном и ждал только, пока Мадлене исполнится восемнадцать лет, чтобы можно было заключить брак, как вдруг, в конце той зимы, когда она впервые стала выезжать, Мадлена объявила отцу, что обручилась с лейтенантом Баском. Яростное противодействие отца длилось не один месяц и было одинаково непонятно для всех — и для семьи, и для общества. Как мог он предпочесть богатому офицеру с приятной наружностью и блестящим будущим какого-то жалкого неимущего студента без роду, без племени? Эгоизм ученого, говорили люди.
У доктора были причины слишком личного свойства, чтобы он мог делиться ими с кем бы то ни было. Воспротивясь браку Мадлены, он почувствовал, что стал врагом обожаемой дочери, и вбил себе в голову, что она будет рада его смерти, что отныне он для нее только препятствие — старая стена, которую надо снести, чтобы соединиться с зовущим ее самцом. Из потребности разобраться в себе и определить, насколько сильна ненависть к нему его любимой девочки, доктор довел свое упрямство до крайней степени. Даже его старуха-мать была с ним не согласна и стала сообщницей молодых людей. В его собственном доме плелись тысячи интриг, чтобы влюбленные могли соединиться вопреки его воле. Когда он наконец сдался, дочь наградила его поцелуем в щеку, а он, как прежде, слегка откинул ей волосы назад и коснулся губами ее лба. Все вокруг непрестанно твердили: «Мадлена обожает отца, она всегда была его любимицей». До самой смерти он, конечно же, будет слышать от дочери нежные слова: «Дорогой мой папочка».
А покамест приходилось терпеть общество этого Баска. Неприязнь к нему доктора так или иначе давала себя знать, несмотря на неимоверные усилия, которые он над собой делал. «Удивительное дело, — говорила г-жа Курреж. — У Поля есть зять, который думает обо всем совершенно так же, как он сам, а он его не любит». Этого-то и не мог доктор простить молодому человеку: тот искажал и возвращал ему в карикатурном виде самые дорогие для него идеи. Лейтенант принадлежал к числу людей, чье одобрение только тяготит нас и заставляет усомниться в истинах, за которые мы еще недавно готовы были пролить свою кровь.
* * *
— Да, папа, поберегите себя ради ваших детей, позвольте им защищать ваши интересы против вас самих.
Доктор вышел из столовой, не ответив ни слова. Немного погодя супруги Баск удалились к себе в спальню (священная территория, о которой г-жа Курреж говорила: «Ноги моей там не будет, Мадлена дала мне понять, что ей это было бы неприятно. Ну а мне два раза повторять не надо, я понимаю с полуслова») и стали молча раздеваться. Стоя на коленях возле кровати и уткнувшись головою в полог, лейтенант вдруг обернулся к жене и спросил:
— Это владение входит в общее имущество?
— ?
— Я спрашиваю, было ли оно приобретено твоими родителями за время их супружества?
Мадлена полагала, что это так, но точно не знала.
— Хорошо бы узнать, потому что в случае, если твой бедный папа… мы будем иметь право на половину.
Он опять погрузился в молчание, потом вдруг спросил, сколько лет Раймону, и, казалось, был недоволен тем, что ему только семнадцать.
— А какое это имеет значение, почему ты спрашиваешь?
— Просто так…
Возможно, он подумал, что наличие в семье несовершеннолетнего всегда осложняет дело с наследством, потому что, поднявшись, сказал:
— Лично я думаю, что твой папочка покинет нас не ранее, чем через несколько лет.
Огромное ложе разверзлось в полумраке перед супругами: они улеглись в него так же просто, как в полдень и в восемь вечера садились за стол — когда приходило время утолить голод.
В те ночи Раймону случалось внезапно проснуться: он не мог понять, что за теплая густая жидкость струится по его лицу, затекает в рот; нашарив рукой спички, зажигал их и убеждался, что из левой ноздри у него сочится кровь, пачкая рубашку и постель. Он вставал и, дрожа от холода, разглядывал в зеркале свое длинное тело, все в алых пятнах, вытирал о грудь липкие от крови пальцы и потешался над своим измаранным лицом, воображая себя одновременно и убийцей, и убитым.
IV
![Франсуа Мориак - Том 2 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/140343/140343.jpg)
![Франсуа Мориак - Том 3 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/138346/138346.jpg)